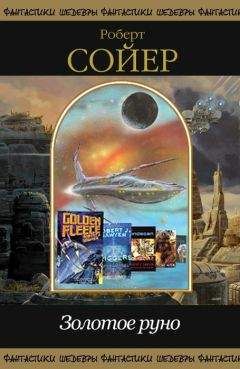Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]
Впереди, чуть дальше за гостиницу, плотная стена народу, вылившаяся на проезжую часть улицы. В экономном уличном свете еще издали замечаю белые искры листовок. Люди размахивают ими, суют прохожим, на обеих сторонах улицы раздаются возгласы — последние прикидки перед манифестацией. Глаза горят. Взгляды прямые, искренние. Именно на этом месте, вот у этих ворот, у этой чугунной решетки, взломанных танковым ударом черных полковников, пролилась кровь их товарищей. Им некогда тереться по темным переулкам — за ними будущее Греции, и они за него в ответе.
Поворачиваю назад, к гостинице. Несколько раз оглядываюсь, вижу несколько студентов, взобравшихся на решетку. Каждый держится одной рукой, другой размахивает и что-то кричит над головами товарищей и прохожих.
Прибавляю шагу, но тут же останавливаюсь как вкопанный. Как же это я не заметил, когда шел сюда? Глазел по верхам, а такого не видел и сейчас мог пройти, не заметив. Не простил бы себе, а ведь проходил, видать, сегодня…
На асфальте, припав спиной к стене дома, сидел малыш лет пяти — семи от роду. Темная головенка свесилась на плечо. Он спал, как пастушок в поле, и даже кепка, положенная вверх подкладкой меж ножонок, обутых в какие-то сандалии, не у всех вызвала бы ту догадку, на которую рассчитывал малыш, если бы он не подстраховался картонной биркой, что висела у него на бечевке через шею: «ЛЕПТА». Прочтя эту бирку на груди ребенка, только распоследний глупец мог бы не понять, зачем здесь он сидит. И будто молнией высветился первый вечер в Афинах, когда я не придал большого значения, увидав, что полицейский отводит вот такого же малыша с людной улицы куда-то в переулок. Запомнилось, как семенил ребенок, укладывая свои три-четыре шага в один шаг взрослого, а в руке держал кепку бережно и крепко — так, как в детстве мне приходилось носить грачиные яйца, спустившись с недоступно высокой березы… А он семенил и поддергивал свободной ручонкой штанишки, то и дело вытягиваясь, когда полицейский приподымал его ненароком, и вновь обретая почву под ногами. Подумалось тогда: не воришка ли маленький, чего на свете не бывает? А тут вот что… Он спал крепко, мой найденыш. Острые плечишки под полосатой рубашкой мерно подымались и опускались. Что снилось ему сейчас? Я подошел вплотную и понял причину своей невнимательности: он был незаметен за урной, да и темновато. В кепке оловянно блеснули несколько монет. Не много высидел, парень… Ну вот и докатилась моя лелта до горького часа — иди в кепку!
Маловато бросил, потому со стыдом оглядываюсь и торопливо ухожу в гостиницу, — поди докажи, что у меня больше ни лепты за душой…
Эх, ночка темная,
Ночь осенняя.
Ночь осенняя —
Ночь последняя! —
вот уж и петь попробовал, да не пелось. Ночь вроде как последняя, но совсем она не осенняя, не наша. Небо южное, черное, а за окошком гостиницы — апокалипсическое бешенство огненных реклам и грохот тяжелого стада грузовиков. Так будет всю ночь. Но можно примириться с этим шумом и с этим светом, что снова идет из конторы, превращенной в самодельное казино, только как успокоить в себе неуютность от всего, что увидел и услышал? До широкой постели с ее упругим матрасом и белыми простынями как-то неловко дотрагиваться, все почему-то кажется, что ты кого-то обделил в этом мире, что какому-то малышу за уличной урной потому и не досталось удобств, сытости и крыши, что твоя персона, твое тело получило все это.
Но как бы там ни было, а пришлось ложиться спать: жизнь, черт подери, сильнее. Нетрудно было убедить себя в том, что день предстоял не обычный и не простой — особенный день.
Где-то за полночь подкралось то, что должно было явиться, — беспокойство. От него не удалось закрыться шторами, и все это шло от полной неизвестности: куда повезет меня, с кем познакомит мадам Каллерой и нужно ли мне это? Я досадовал на нее и себя поругивал за промашку, что не спросил сразу, кому и что от меня нужно. Конечно, будь это не мадам Каллерой, а какой-нибудь несчастный жучок вроде Ильи, что трется у площади Омония, дело обстояло бы проще: взять двумя пальцами за лацкан пиджачишка и попросить объяснения, а тут… Тут совсем другое дело. Смягчало всю эту оскомину лишь упоминание о какой-то таинственной незнакомке, вокруг которой нет-нет да и разыгрывалось мое воображенье, раскачивало на волнах возможного и невозможного разгоряченную бессонницей фантазию. То виделась та богиня из аэропорта (я был почти уверен, что это она!), то вытесняло ее бледное и печальное лицо той, которую спугнул на горе Ликабет… Когда фантазия притуплялась и начинала повторяться, то возникало немытым мурлом сатира неверное лицо Ильи. Оно казалось отвратительным в сравнении с божественными лицами тех женщин, поэтому меня бросало в другую крайность, и воображение четко прорисовывало некую западню, уготованную мне Ильей и его злонамеренными сообщниками. И хотя виденья эти серьезной раскладки не выдерживали, я все же решил завтра поделиться с приятелями своими сомнениями или, по крайней мере, обозначить им направленье, где меня можно будет искать… «Что сделалось с миром! — вздыхал я, тараща в полутьму глаза. — Человек, да еще нынешний, разумный, познавший недра Земли и крышу-космос над ней, опасается и поныне себе подобного! Боги Греции, зачем вы так рано покинули нас! Тогда, в маломерном греческом мире, были стены и крыша; в небесах, под водой и на земле был свой, ответственный за свою вотчину бог или богиня, с них трудно было простому человеку спросить, но можно было пожаловаться, попросить совета. Кому же мне поведать о своих сомнениях в этой афинской гостинице? Кого призвать в однодумцы?»
«Нет, брат, — сказал я сам себе, — завтра же покаянно поведаю друзьям своим по столу и по душе — пусть знают: нет у меня от них никаких секретов! Впрочем… Впрочем, утро вечера мудренее».
Проснулся неожиданно рано. В уличный монотонный грохот грузовиков примешался резкий скрежет тормозов, а за ним и удар. Я выглянул с балкона — точно: перед перекрестком, ближе к тому углу, где вчера вечером сидел на панели мальчик, столкнулись две машины. Их уже отбуксировывали, не дожидаясь разбирательств, поскольку дорога и время были, видать, важнее. Солнца еще не было. Гора Ликабет вся закрыта то ли сумраком, то ли туманом, который здесь, внизу, особенно в ущельях улиц, смешивался с гарью выхлопных газов и закупоривал улицы белесыми тупиками, делая их короче и загадочней.
О воздухе говорить не приходится, но и он бодрил в этот ранний час. Спать не хотелось, да и стоило ли жадничать, если впереди дом — высплюсь! Я заправил сначала кровать, чтобы решительно отрезать путь в царство Морфея, умылся самым дотошным образом и направился в город, чтобы понаблюдать утренние Афины.
Есть своя, особая прелесть в утренних городах. Привыкнув видеть их в скованной деловитости дня, блеске и грохоте дверей, в столпотворении магазинов, в вавилонской мешанине блицдиалогов, или вечером, когда казенные канцелярские особняки, подобно элеваторам, высевают людей с верхних этажей в нижние и на улицы, а сами люди, уставшие, молчаливые, с одной мучительной мыслью в одинаково темных с отблесками глазах — да будет ночь! — уже похожи на отживших свое, будто вышедших на последнюю прогулку стариков, — привыкнув все это видеть изо дня в день, человек современного города, если он не измотан донельзя, как никто другой умеет ценить ранний утренний час. Рождение нового дня вселяет неясную и несбыточную надежду на то, что ничего из вчерашнего уже не повторится, что начнется отныне и во веки веков другая, достойная человека жизнь, что в эти пустынные улицы, в эти молчаливые дома вот-вот придут вместе с солнцем другие люди, а те, бывшие, вчерашние, навеки остались стоять в витринах, как в анатомическом театре, посвечивая холодными, прозекторской выделки лицами.
Я вышел из гостиницы. Как неумелый ныряльщик, едва не закрыв пальцами глаза и уши и совершенно остановив дыханье, улучив момент, перебежал перед машинами и нырнул в боковую улицу. Совсем другой город! На тротуарах — ни души, и можно позволить себе непозволительную в другие часы вольность — идти прямо посередине, не спеша. По обе стороны спокойные и потому красивые дома без припадочной дрожи световых реклам. А какая тишина! Как под водой, куда доносится приглушенный шум наземной суматохи. Чистые витринные стекла девственно смотрят в улицу, как невозмутимые, тихие заводи родниковой воды, будто это и не они вчера вечером и ночью старательно отражали всю бездну людских страстей. Ныне они неожиданно и смиренно показывают детские костюмчики. Эта одежда, кажется, только сейчас появилась, под утро, как мелкая рыбешка появляется у берега, когда все стихнет тут и уляжется мелководная муть.
Я радуюсь вдруг, что слышу где-то рядом бумажный шорох, шарканье чьих-то легких шагов, жажду видеть человека, будто провел в одиночестве не считанные минуты, а целую вечность, и вот уже предвкушаю радость от этой утренней встречи. Кто же, интересно, шуршит в воротах меж домами? Надо взглянуть!